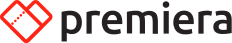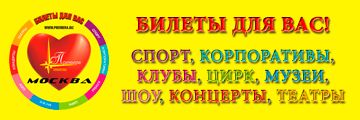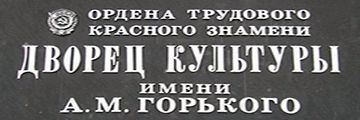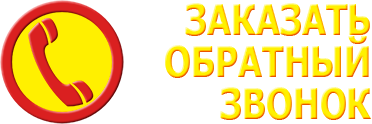Три Сестры
Прозоров Андрей Сергеевич - Алексей Дадонов
Наталья Ивановна, его невеста, потом жена - Екатерина Сибирякова
Ольга - Евгения Дмитриева
Маша - Анна Халилулина
Ирина - Нелли Уварова
Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши - Виталий Егоров
Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник,
батарейный командир - Александр Феклистов
Тузенбах Николай Львович, барон, поручик - Андрей Кузичев
Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан - Евгений Самарин
Чебутыкин Иван Романович, военный доктор - Игорь Ясулович
Федотик Алексей Петрович, подпоручик - Юрий Макеев
Родэ Владимир Карпович, подпоручик - Денис Береснев
Ферапонт, сторож из земской управы, старик - Александр Леньков
Анфиса, нянька, старуха 80 лет - Галина Морачёва
Режиссер - Деклан Доннеллан
Сценография и костюмы - Ник Ормерод
Художник по свету - Джудит Гринвуд
Ассистент режиссера - Евгений Писарев
Музыкальное оформление - Сергей Чекрыжов
Педагог по вокалу - Аида Хорошева
Педагог по пластике - Рамуне Ходоркайте
Переводчик Деклана Доннеллана, литературный консультант - Дина Додина
Ассистент художника по костюмам - Наталия Веденеева
Помощник режиссера - Ольга Василевская
Заведующий труппой - Ольга Шарапова
Технический директор - Владимир Кизеев
Свет - Сергей Тимченко, Сергей Говорушкин
Звук - Валерий Антонов
Грим - Наталия Помараева
Реквизит - Лариса Абашкина
Костюмеры - Наталия Веденеева, Татьяна Кулакова
Машинисты сцены - Георгий Сипрашвили
Дмитрий Ходин
Координатор проекта - Анна Краснова
Генеральный продюсер - Валерий Шадрин
The Washington Post
21 октября 2010 года
Питер Маркс, Центр «Кеннеди»
«В Москву, в Москву, в Москву-у-у…» - этот сдавленный стон измученной души Ирины звучит в финале первого акта пьесы «Три сестры», блистательно прочитанной режиссером Декланом Доннелланом. Это плач, пронизывающий всю пьесу, выражающий вечное смятение души (…) Последнее «В Москву…» звучит, как мучительный выдох, когда слово застревает в горле (…) Кажется, весь воздух выпущен из этой семьи, живущий в российской глубинке в самом начале прошлого века (…).
В отличие от многих других постановок Чехова, оставляющих ощущение посещения музея и чувство пиетета перед хранящимися в нем бесценными экспонатами, спектакль Доннеллана заставляет воспринимать происходящее, как нечто, совершающееся здесь и сейчас. Мы остро чувствуем, что мы и эти невротичные, легко возбудимые люди из другой страны и из другой эпохи дышим одним воздухом.
Эта постановка «Трех сестер» была осуществлена британским режиссером Декланом Доннелланом и его труппой «Чик бай Джаул» совместно с Международным чеховским театральным фестивалем. Удивителен уровень взаимопонимания между режиссером и российскими актерами, занятыми в этом спектакле. Постановка Доннеллана, несомненно, относится к лучшим трактовкам «Трех сестер», когда зрителю делается, то смешно, то грустно, и все это невероятно трогательно, особенно когда мы начинаем понимать, что чем более страстно герои стремятся к осуществлению своих желаний, тем меньше у них шансов достигнуть цели.
Зритель не может не сочувствовать их упорству, их клятвам посвятить себя работе, их категорическому нежеланию сдаваться. В трактовке Доннеллана эти качества чеховских персонажей предстают особенно убедительно и выпукло. Художник спектакля Ник Омерод использует минимум выразительных средств. На сцене несколько больших панелей, обозначающих дом или деревья, хаотично расставленные стулья и столики, кукольный домик, возможно, воссоздающий образ семейного очага, или воплощающий память сестер о счастливом детстве. В этом аскетически оформленном пространстве увеличивается масштаб персонажей, особенно отчетливо выявляются их качества, будь то «собачья» преданность мужа Маши Кулыгина (Сергей Ланбамин) или неотвратимое усиление тирании жены Андрея Наташи (Екатерина Сибирякова).
Связующим началом в спектакле являются сестры: уравновешенная Ольга (Евгения Дмитриева), безутешная Маша (Анна Халилулина), порывистая Ирина (нет имени актрисы). Их жалобы, их суетливость, их волнение создают иллюзию близости. Когда они падают на пол от смеха, потешаясь над попытками неотесанной свояченицы предстать солидной дамой, кажется, что эти женщины не обременены никакими тяжкими предчувствиями. Тонкость психологической игры состоит в том, как испытываемое сестрами презрение к Наташе постепенно перерастает в неодолимый страх перед ее амбициями стать настоящей хозяйкой дома.
Помимо прочего, «Три сестры» - это исследование состояния праздности. Праздности, как метафоры, и праздности, как социальном явлении. Действие пьесы охватывает несколько лет из жизни вполне обеспеченного семейства трех сестер и их брата Андрея (Алексей Дадонов). В этой пьесе вопрос о том, куда девать время (у одних персонажей есть работа; другие похваляются тем, что никогда не работали) переходит из области философских изысканий в чисто практическую плоскость. На самом деле, происходит эрозия юношеского ощущения бесконечности жизни, которая еще только предстоит. Так, Андрей, когда-то подававший надежды стать профессором, заняться научной работой, в итоге удовлетворился должностью мелкого чиновника в провинциальном городке. То же и другие обитатели этого замерзшего пространства. К примеру, военный врач Чебутыкин (Игорь Ясулович) превратился в совершенно опустошенного пьяницу, утратившего всякий интерес к тем, о ком он призван заботиться. В исполнении Ясуловича прозвучал самый убедительный из слышанных мною монолог о том, как после случайной смерти пациента, он вообще перестал испытывать какие-либо чувства. В нем говорит не чувство вины, а малодушное признание бессмысленности прожитой жизни.
От сцены к сцене актеры Доннеллана придают кристаллическую ясность и четкость своим персонажам. Мы физически ощущаем столкновение противоборствующих инстинктов. Яркий пример Маша. Наконец, оказавшись в объятиях любимого человека – романтика-утописта Вершинина (блистательный Александр Феклистов), она вдруг падает на пол, словно испытав сильнейший шок. Притворные увещевания заставшего их за поцелуем Кулыгина лишь укрепляют Машу в мысли о том, что от судьбы не уйдешь.
Накопленное эмоциональное напряжение находит разрешение в финальном эпизоде пьесы, когда сестры пытаются укрепить друг друга в вере в то, что все пережитое ими было не напрасно. Разрывающая душу печаль звучит в словах одной из сестер: «… и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем…»
_____________________________________________________
The Irish Times
20 октября 2009 года
Хелен Мини, театр «Гэйти»
(…) Режиссер труппы «Чик бай Джаул» Деклан Доннеллан и художник Ник Омерод уже почти «почетные граждане» России, а их спектакль «Три сестры», осуществленный в сотрудничестве с Московским международным театральным фестивалем имени Чехова, несомненно, предназначен для истинных ценителей.
Благодаря простоте и прозрачности постановки, сложность чеховской пьесы проявляется постепенно. Постановщики не пытаются привнести какие-то новые смыслы, выдать новую трактовку. Вместо этого они слой за слоем обнаруживают те смыслы, которые заложены в пьесе изначально. Конечно, неплохо было бы ознакомиться с пьесой загодя, по крайней мере, знать, что три сестры, живущие в маленьком провинциальном городе в самом начале двадцатого века, стремятся расширить горизонты своего бытия, и для них это неразрывно связано с возвращением в Москву и возможностью найти применение своим «избыточным познаниям».
Главное в этой пьесе не то, что происходит, хотя событий в ней предостаточно (пожар, дуэль, любовная интрига), а то, что персонажи говорят и думают друг о друге, и как эти отношения меняются с течением времени. Как разочарование усиливается и грозит разрушить жизни героев. Все больше и больше их вера обращена в далекое будущее, и зрители оказываются вовлеченными в строительство этих воздушных замков, поскольку персонажи обращаются непосредственно к ним.
Новизна заключается в том, как внимательны постановщики к деталям и образным характеристикам. Несмотря на то, что персонажи вовлечены в тесный клубок отношений, режиссеру удается выделить каждого из них, проявить мотивы каждого их поступка. Офицер Соленый пытается совратить младшую сестру Ирину, и эти «сексуальные домогательства» подводят ее к прагматическому решению выйти замуж за Барона. Старшая из сестер, Ольга, весьма неохотно исполняющая роль наставницы младших, оказывается не менее склонной отдаваться на волю чувств, чем те, кого она призвана «наставлять». Она увлечена Вершининым, влюбленным в ее сестру Машу, что не мешает ей заставить Вершинина отрепетировать в ее присутствии прощальную речь к Маше и испытать при этом чувство, граничащее с удовлетворением. Очаровательная улыбка Маши и ее горький смех не оставляют сомнения в том, что она заранее знает, что ее любовь к Вершинину никогда не расцветет, что Вершинин покинет их город вместе со свои полком. А она останется со своим нелюбимым мужем Кулыгиным, который поспешит вычеркнуть из памяти то, что застал ее в объятиях Вершинина, и будет плакать, уткнувшись лицом ей в колени, как маленький ребенок, которого у них не было и никогда не будет. Это очень тонкий момент, по эмоциональной силе сопоставимый разве что со словами, обращенными Ольгой к зрителям в финале спектакля: «…и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!»
_____________________________________________________
The Sunday Times
6 мая 2007 года
Джон Питер
Это великий спектакль, захватывающее открытие заново великой и хорошо знакомой пьесы. Деклан Доннеллан сумел вырваться из липкого тумана претенциозности и меланхолии. Сестры Прозоровы молоды, прекрасны, игривы и изысканны. Не провинциальные мечтательницы, а уверенные в себе москвички из хорошей семьи. Они много смеются, а когда тучи над их головами сгущаются, этот смех становится издевательским, ироничным, исполненным гнева и отчаяния, формой самозащиты и самоутешения. Трагизм пьесы от этого лишь усиливается: сестры терпят поражение, но делают это с гордостью. Пьеса играется на русском. Большинство актеров сформировались в творческом плане в пост-горбачевское время, и их манера игры – во многом вызов и самоутверждение. Великолепен Александр Феклистов в роли Вершинина: славный малый средних лет, слегка неуклюжий, никогда не был красавцем, но в нем есть мальчишеский пыл, который не может не вызвать теплые чувства.
The Independent
4 мая, 2007 года
Пол Тейлор, Центр искусств «Уорвик», Ковентри
Художественные руководители труппы “Чик бай Джаул» Деклан Доннеллан и Ник Омерод имеют необычный статус, считаясь национальным достоянием сразу в двух странах – родной Англии и «приемной» России. Их гастрольные спектакли произвели такой фурор в Москве и Санкт-Петербурге, что в 1999 году Международная конфедерация театральных союзов (в английском тексте Theatre Federation) предложила создать аналог труппы в России. Блистательная версия «Трех сестер» в исполнении этой труппы дает исчерпывающий ответ на вопрос, почему Доннеллан и Омерод так пришлись ко двору в России.
Я никогда не видел спектакля, столь удивительно легкого и одновременно столь экспрессивного, столь точного в выборе выразительных средств для передачи неуловимых оттенков постоянно меняющихся настроений. В начале мы видим трех сестер и их брата Андрея, словно позирующих для семейного портрета. Этот портрет, на котором они такие благовоспитанные и явно пребывают в идеальном согласии друг с другом, несомненно, порадовал бы их отца генерала. Но после его смерти, такой портрет невозможен в принципе, поскольку они, по сути, остались на мели, с их никому не нужной образованностью, с их вечными сомнениями, в захолустном и убийственно тоскливом городке.
Постановщики отказались от суетливого копирования реальности и тем самым обеспечили себе исключительную свободу маневра. На сцене кукольный домик, какой-то допотопный патефон, хаотично расставленные столы и стулья… Смена сцен осуществляется посредством простой перестановки этих предметов. Во второй сцене, когда ждут появления ряженных, столы становятся как бы второй сценой, на которой свечи играют роль рампы. Эти «мини-сцены» становятся ареной философской схватки между Вершининым и Тузенбахом.
На протяжении всего спектакля зрителей не покидает чувство, что эти люди отчаянно пытаются вывести себя из состояния глубокой депрессии. Совершенно в чеховском духе за смехом и игривостью здесь скрываются глубоко трагические переживания. Это замечательно продемонстрировано в эпизоде, когда после пожара жена Андрея Наташа (Екатерина Сибирякова), преисполненная уверенности, что именно она настоящая хозяйка этого дома или, по крайней мере, скоро станет таковой, совершает обычный свой обычный обход со свечой в руке. Она настолько поглощена своими мыслями, что не замечает находящихся здесь же трех сестер. После реплики Маши – «Она ходит так, будто она подожгла» - все трое начинают безудержно хохотать. В этом коротком эпизоде содержится многое – и необычайная близость в отношениях, которую сестры сумели пронести через всю жизнь, и забавно снобистское противопоставление себя грубой и неотесанной Наташе, и юмор, которому находится место даже в самых драматических ситуациях (…)
Необычайно интересна Нелли Уварова в роли Ирины, которая в свои неполные двадцать четыре года остро чувствует, как подавляется ней способность любить и очень боится утратить эту способность навсегда. Непривычно привлекательна стоически переносящая свое одиночество Ольга в исполнении Евгении Дмитриевой. Как от назойливой мухи она отмахивается носовым платком от неприятной ей мысли, что Маша готова отдаться «преступной» страсти и совершить супружескую измену. В то же время она проявляет властность характера, выливая стакан воды на готовую впасть в истерику Ирину. Вся история несчастного замужества Маши рассказана в одном коротком эпизоде, когда Кулыгин утыкается лицом ей в колени, плачет и жаждет быть утешенным, как маленький ребенок. И мы понимаем, что будь у них дети, их брак, возможно, не был бы столь несчастливым (…)
The Times
30 апреля, 2007 года
Сэм Марлоу, Художественный театр, Кембридж
(…) Режиссер спектакля Деклан Доннеллан смог убедительно «объяснить» зрителю, что беззаботная игривость сестер, теплота и простота их отношений, постоянные обращения к счастливому совместному детству – это в том числе и средства защиты от напастей, в любую минуту готовых обрушиться на семью Прозоровых. Точно так же декорации художника Ника Омерода – символический кукольный домик, мрачный фон из угрожающе накренившихся стен и окон – создают образ дома Прозоровых, который для его обитателей является одновременно и убежищем, и тюрьмой (…)
Чувство легкости, пронизывающее весь спектакль, частично происходит из присущей сестрам детской непосредственности, ощущения абсурдности происходящего и вынужденного соблюдения всех социальных условностей. Ольга (Евгения Дмитриева) старается загрузить себя домашними заботами. Она лишь вежливо и беспомощно улыбается, когда Маша (Ирина Гринева) жалуется на беспросветную жизнь. И она же бросает очень женский, откровенно оценивающий взгляд на предмет Машиной «порочной любви» Вершинина – то ли героя-любовника, то ли «благородного отца». В этом взгляде есть какая-то очаровательная порочность (…)
Безотчетный страх, испытываемый персонажами, заставляет их совершать неадекватные поступки. Беседы прерываются зевками, грубым хохотом, вздорными репликами. Андрей изливает душу глухому слуге. Безуспешные попытки Соленого ухаживать за Ириной завершаются чуть ли не попыткой сексуального насилия. Кулыгин плачет, уткнувшись лицом в колени Маши, словно в мольбе о детях и счастливой семейной жизни, которыми она могла бы одарить его, если бы не ее вечная хандра и презрение.
Когда Ирине на именины дарят волчок, все домочадцы наблюдают за его бессмысленным вращением, которое становится очень ёмкой и лаконичной метафорой бессмысленности их жизни. Ужасающая простота. Просто ужас…